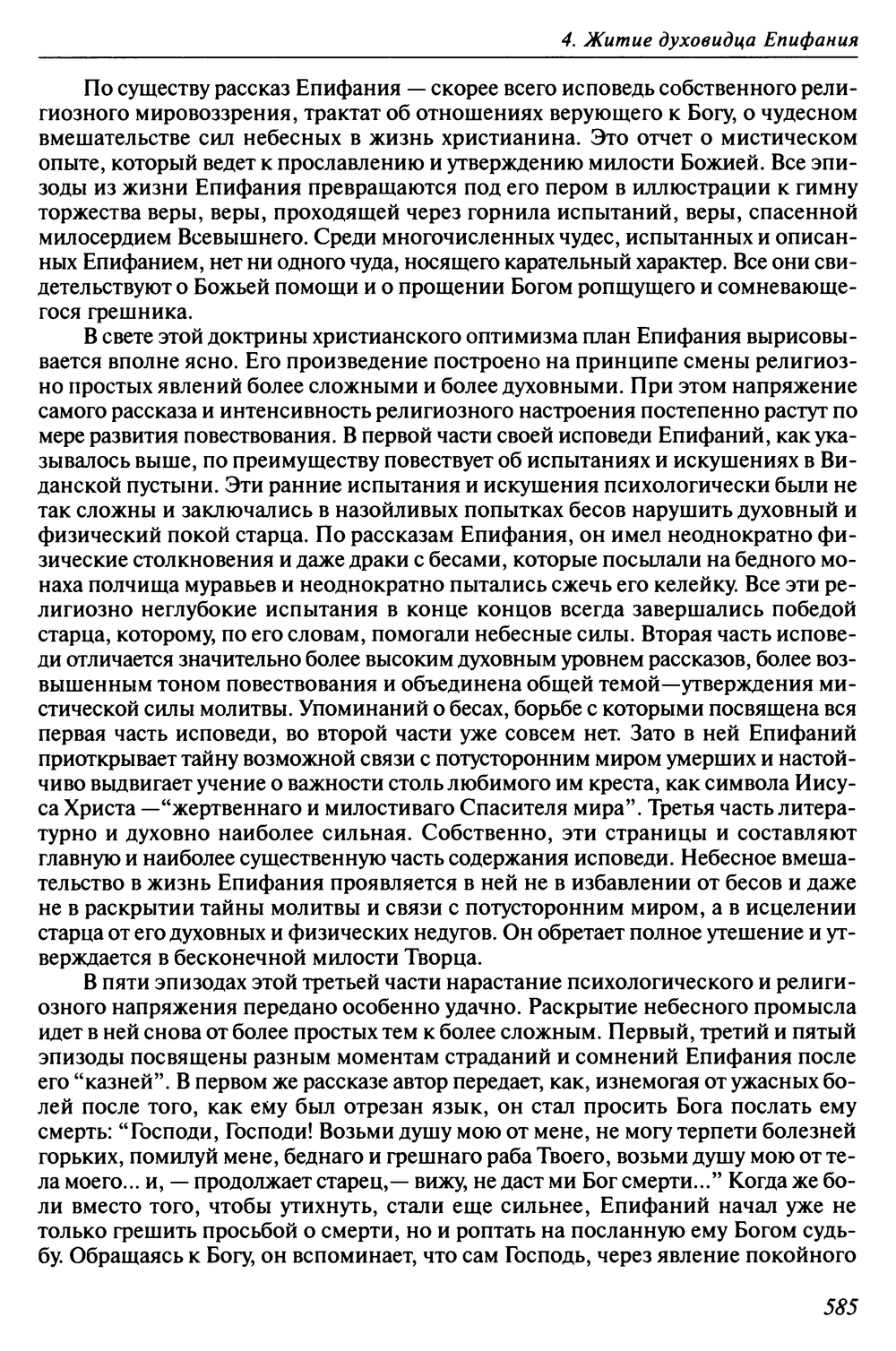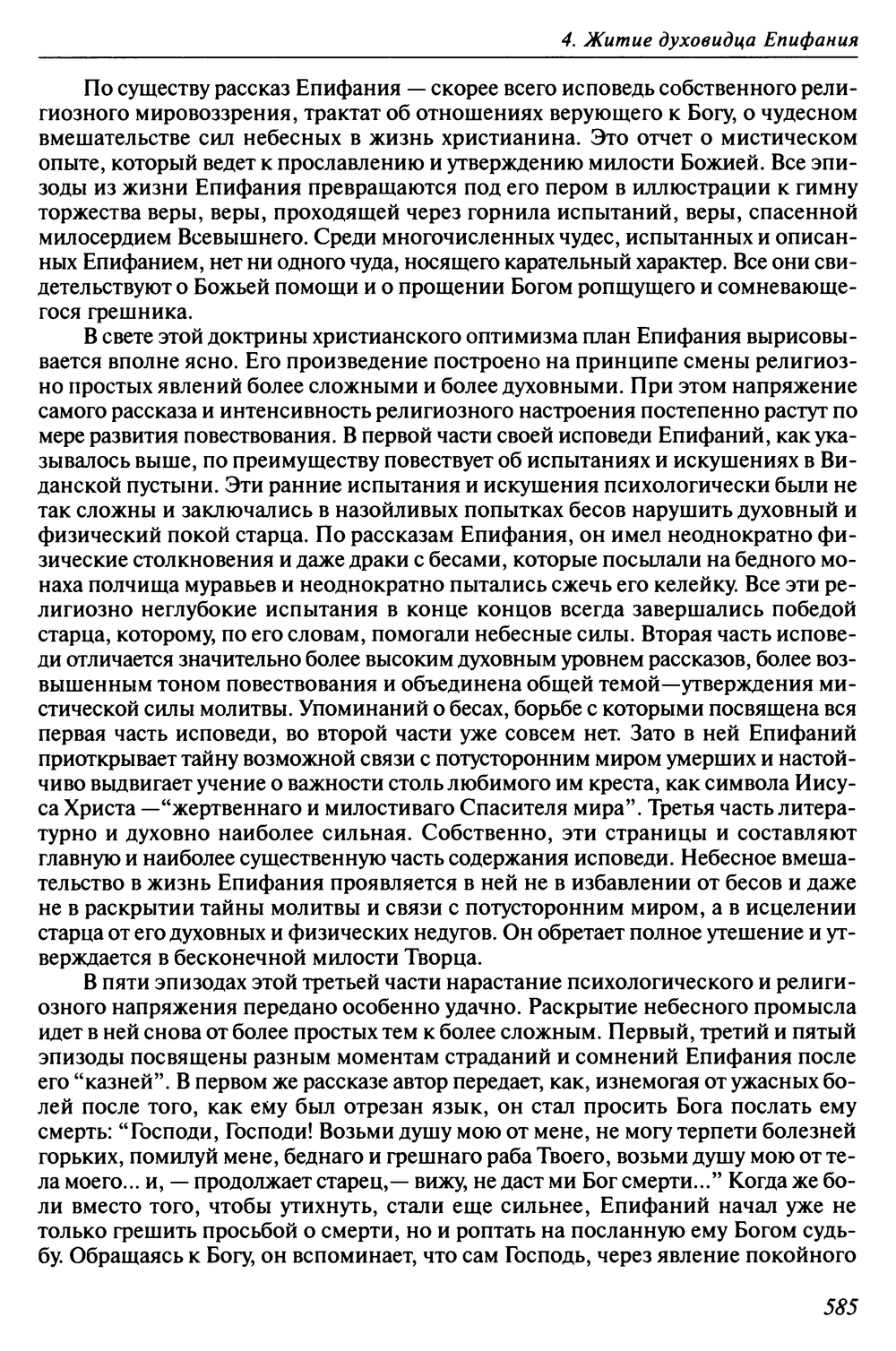4. Житие духовидца Епифания
По существу рассказ Епифания — скорее всего исповедь собственного
религиозного мировоззрения, трактат об отношениях верующего к Богу, о чудесном
вмешательстве сил небесных в жизнь христианина. Это отчет о мистическом
опыте, который ведет к прославлению и утверждению милости Божией. Все
эпизоды из жизни Епифания превращаются под его пером в иллюстрации к гимну
торжества веры, веры, проходящей через горнила испытаний, веры, спасенной
милосердием Всевышнего. Среди многочисленных чудес, испытанных и
описанных Епифанием, нет ни одного чуда, носящего карательный характер. Все они
свидетельствуют о Божьей помощи и о прощении Богом ропщущего и
сомневающегося грешника.
В свете этой доктрины христианского оптимизма план Епифания
вырисовывается вполне ясно. Его произведение построено на принципе смены
религиозно простых явлений более сложными и более духовными. При этом напряжение
самого рассказа и интенсивность религиозного настроения постепенно растут по
мере развития повествования. В первой части своей исповеди Епифаний, как
указывалось выше, по преимуществу повествует об испытаниях и искушениях в Ви-
данской пустыни. Эти ранние испытания и искушения психологически были не
так сложны и заключались в назойливых попытках бесов нарушить духовный и
физический покой старца. По рассказам Епифания, он имел неоднократно
физические столкновения и даже драки с бесами, которые посылали на бедного
монаха полчища муравьев и неоднократно пытались сжечь его келейку. Все эти
религиозно неглубокие испытания в конце концов всегда завершались победой
старца, которому, по его словам, помогали небесные силы. Вторая часть
исповеди отличается значительно более высоким духовным уровнем рассказов, более
возвышенным тоном повествования и объединена общей темой—утверждения
мистической силы молитвы. Упоминаний о бесах, борьбе с которыми посвящена вся
первая часть исповеди, во второй части уже совсем нет. Зато в ней Епифаний
приоткрывает тайну возможной связи с потусторонним миром умерших и
настойчиво выдвигает учение о важности столь любимого им креста, как символа
Иисуса Христа —"жертвеннаго и милостиваго Спасителя мира". Третья часть
литературно и духовно наиболее сильная. Собственно, эти страницы и составляют
главную и наиболее существенную часть содержания исповеди. Небесное
вмешательство в жизнь Епифания проявляется в ней не в избавлении от бесов и даже
не в раскрытии тайны молитвы и связи с потусторонним миром, а в исцелении
старца от его духовных и физических недугов. Он обретает полное утешение и
утверждается в бесконечной милости Творца.
В пяти эпизодах этой третьей части нарастание психологического и
религиозного напряжения передано особенно удачно. Раскрытие небесного промысла
идет в ней снова от более простых тем к более сложным. Первый, третий и пятый
эпизоды посвящены разным моментам страданий и сомнений Епифания после
его "казней". В первом же рассказе автор передает, как, изнемогая от ужасных
болей после того, как ему был отрезан язык, он стал просить Бога послать ему
смерть: "Господи, Господи! Возьми душу мою от мене, не могу терпети болезней
горьких, помилуй мене, беднаго и грешнаго раба Твоего, возьми душу мою от
тела моего... и, — продолжает старец,— вижу, не даст ми Бог смерти..." Когда же
боли вместо того, чтобы утихнуть, стали еще сильнее, Епифаний начал уже не
только грешить просьбой о смерти, но и роптать на посланную ему Богом
судьбу. Обращаясь к Богу, он вспоминает, что сам Господь, через явление покойного
585