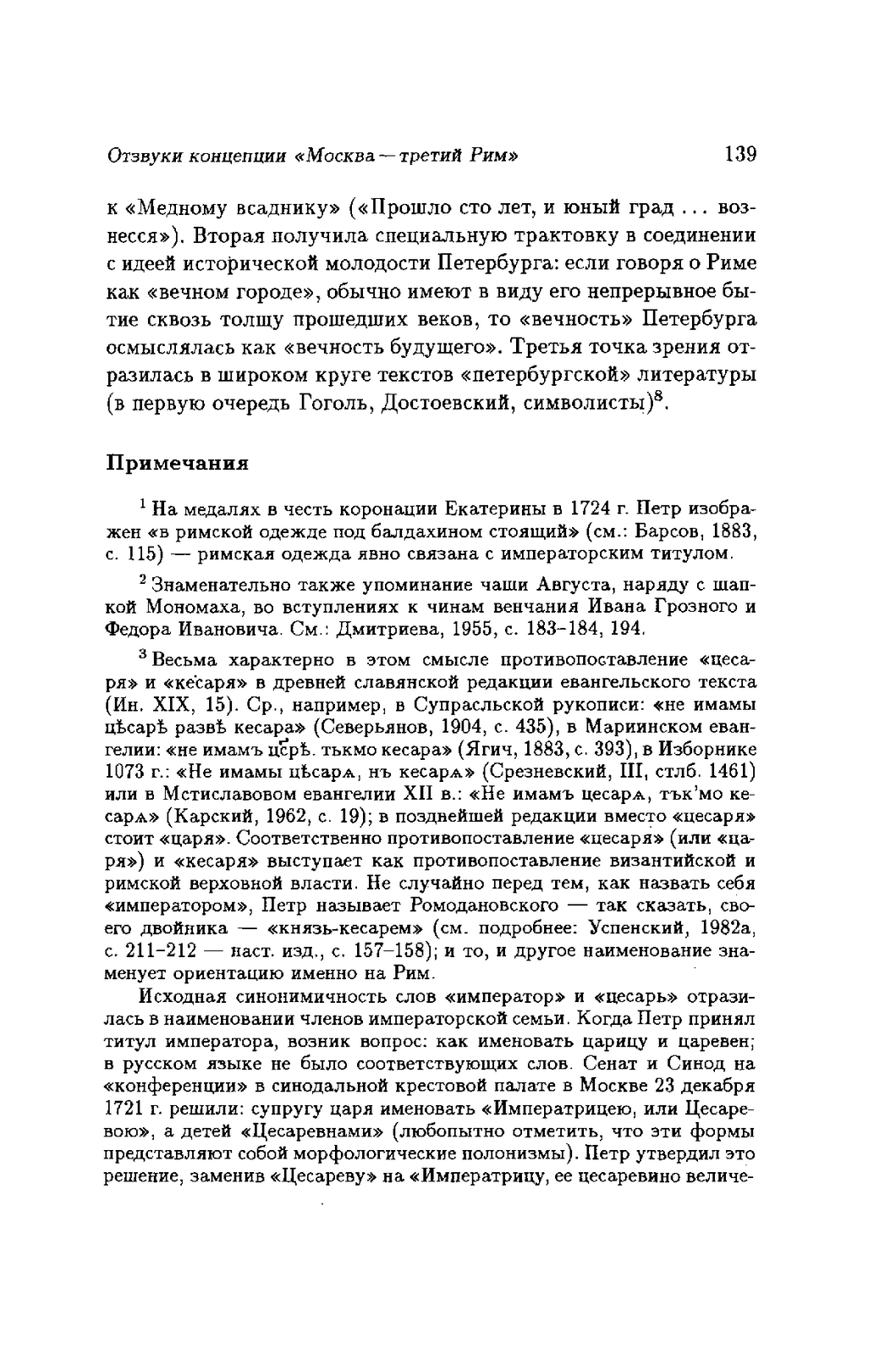Избранные труды. Том I. Семиотика истории. Семиотика культуры
Успенский Б. А. Избранные труды. Т.I. Семиотика истории. Семиотика культуры. Изд. 2-е. — Москва: Школа "Языки Русской Культуры", 1996. С.608. ISBN 5-88766-007-4 |
|
Настоящее (второе) издание «Избранных трудов» выходит в 3-х томах в исправленном и значительно расширенном виде. Некоторые статьи публикуются впервые. Почти все статьи были переработаны для данного издания. Первый том "Семиотика истории. Семиотика культуры" открывается общей статьей, посвященной восприятию времени, и в частности, восприятию истории как действенному фактору в историческом процессе. Эти общие положения иллюстрируются в последующих работах на конкретном материале русской истории. Таковы, например, статьи о самозванцах в России, о восприятии современниками Петра I, и цикл статей, посвященных концепции Москвы как третьего Рима. Автор показывает, что восприятие истории является культурно обусловленным и что оно (это восприятие) определяет исторический процесс. Другой цикл статей специально посвящен царской власти в России. Таковы статьи "Царь и Бог", "Царь и патриарх", "Царь и самозванец". Третий цикл статей данного тома посвящен дуализму в русской культуре. Таковы статьи "Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)" и "Анти-поведение в культуре Древней Руси". |
|